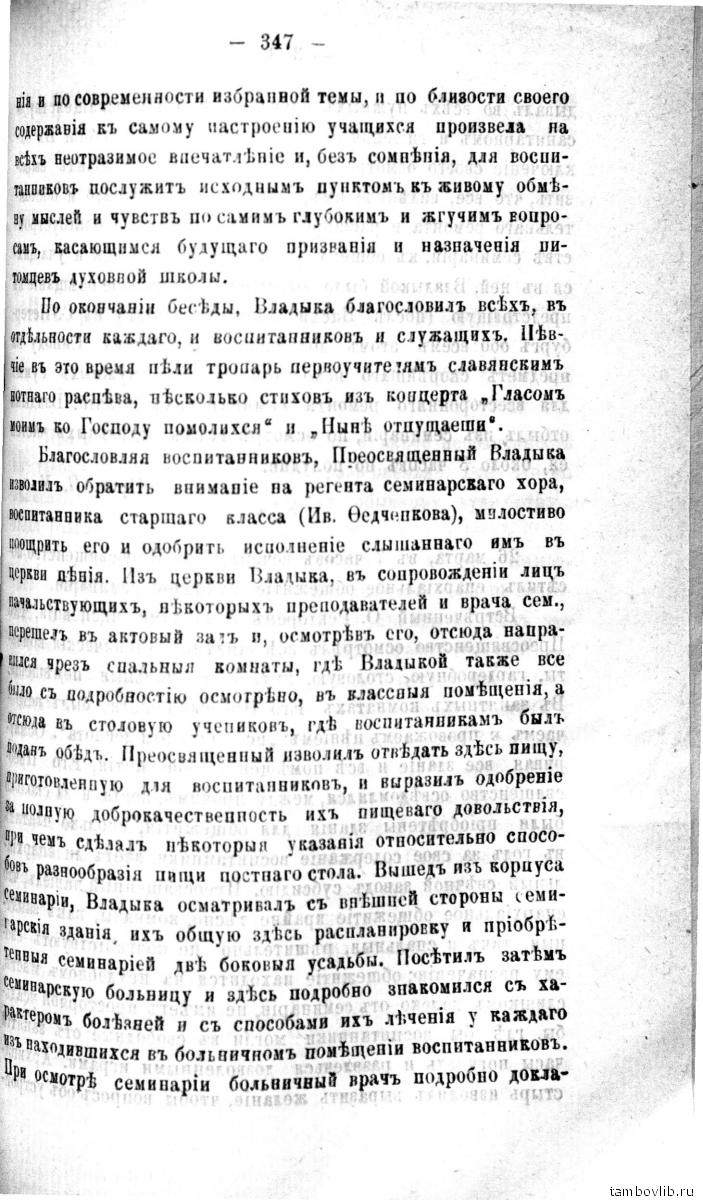См. начало: Глава II. Духовное училище.
Надо напомнить, что все население дореволюционной России было поделено по сословиям. Дети «податного сословия» (то есть платившего подати, налоги в казну), к которым относился и Иван Федченков, не имели права учиться в средних и высших учебных заведениях. Перед переводом в духовную семинарию Ване необходимо было «отписаться» от крестьянства. «Отец или мать со мною сходили в волостное правление верст за семь от дома, — вспоминает владыка. — И, кажется, поднесли бутылку вина волостным старшине и писарю, и те беспрепятственно выдали какую-то бумажку, что я теперь “отписан”. Но кем же я стал после этого — не понимаю и сейчас». По своему новому социальному статусу будущего святителя можно было смело называть семинаристом.
Здание Тамбовской семинарии, где предстояло учиться 17-летнему юноше, возвышалось на берегу старого русла реки Цны почти в центре Тамбова. В двух шагах располагался Казанский мужской монастырь, где немногим более 100 лет назад до описываемых событий был рукоположен в священный сан преподобный Серафим Саровский.
К началу XX века Тамбовская семинария являлась одним из крупнейших учебных заведений в губернии. Здесь обучалось до 600 воспитанников, 205 из которых содержалось за казенный счет. По окончанию духовного училища, как лучший ученик в классе, Иван попал в их число. Он получил бесплатное место в общежитии, расположенном в семинарском корпусе, в то время как большинство других воспитанников жили в «своекоштном» (то есть за свой счет) общежитии. Кто-то жил и по частным квартирам.
«Как и везде, предметы нас не интересовали, — пишет владыка, — мы просто отбывали их, как повинность, чтобы идти дальше. Классические языки не любили, да они оказались бесполезными. В семинарии часто учили «к опросу» по расчету времени, за чем следили особые любители из товарищей. Науки нас не обременяли, на экзаменах усиленно зубрили и «сдавали». <…> Учители жили в общем замкнуто от учеников».
Относительно свободная жизнь во внурочное время для молодых людей оборачивалась зачастую плачевно. Скучная семинарская жизнь при господстве внешней формы заставляла юношей искать себе других развлечений. Главным из которых было пьянство. Как пелось в семинарской песне: «одна отрада и утеха, могуч оплот от мрачных дум — способна вызвать чувство смеха, заставить смело мыслить ум». Не лишены были этого порока и некоторые из лиц преподавательской корпорации. Учащиеся, конечно, об этом знали. Повсеместно было распространено курение.
Находясь под бдительным надзором учебной инспекции, семинаристы, которые жили в «казенном» общежитии, пользовались гораздо меньшей свободой. Но вряд ли только поэтому Иван не пристрастился ни к курению, ни к вину. Он не был хулиганом и даже с измальства избегал всяческих потасовок и драк, уходя от нежелательных встреч как можно скорее. Однако юного семинариста подстерегала иная опасность, которая чуть было не погубила его судьбу.
Во второй половине его первого года обучения в Тамбовской духовной семинарии случился бунт. Причиной бунта явилось жестокое обращение с учениками одного из преподавателей. После того, как последний за подсказку вывел из класса в коридор за ухо юношу лет 20, терпение семинаристов лопнуло. От каждого класса были избраны делегаты для подачи жалобы перед правлением семинарии на действия сурового преподавателя. «Я, первый ученик, и то терялся от него. – вспоминает владыка. – И скольких учеников он представлял к увольнению своей математикой. И так было 27 лет!»
Иван вошел в состав делегации от первого отделения первого класса. Но, судя по всему, делегацию к начальству не допустили. В тот же день после учебных занятий в коридорах семинарии поднялся шум и свист. А вечером началось битье стекол в дверях и окнах. Начальство вызвало полицию. Учебное заведение закрыли. Началось долгое разбирательство.
Как первого ученика и предводителя класса Ивана Федченкова вызвали на допрос. «На допросе меня убеждали открыть имена зачинщиков и особых бунтарей. Я не сказал ничего, конечно. Тогда один из членов правления говорит:
— Вы из крестьян?
— Да.
— Так смотрите же, если мы и своих не пожалеем, то подавно и вас, крестьян.
Я промолчал».
Исполняющий должность инспектора семинарии подготовил рапорт на имя епископа Тамбовского и Шацкого Александра (Богданова), в котором к первой категории бунтовщиков отнес 15 воспитанников. В их числе был и Иван Федченков. Ему грозило неминуемое отчисление, что закрывало путь не только в другие семинарии, но и уменьшало возможность учиться где бы то ни было дальше. Такова была плата за нежелание выдавать своих товарищей. «О, что бы это был за удар для матери! – вспоминает владыка. – Возможно, со своим нездоровым сердцем она могла и умереть тут же от разрыва». Но Промысел Божий решил иначе. Правящему епископу Александру постановление семинарского правления показалось слишком строгим. Он предложил ограничиться лишь дисциплинарными взысканиями, что и было подтверждено Синодом. В результате никого не уволили. Первую группу виновных наказали карцером, а вторую — «двухдневным голодным столом». Всем был снижен балл по поведению. Виновного в возмущении семинаристов преподавателя перевели из Тамбовской семинарии в другую и назначаили там смотрителем. Иван же свое наказание в карцере впоследствии описывал так: «Это была особая комната в больнице, где нас одевали в больничный халат и давали лишь воду и хлеб, но товарищи через окно подавали пирожков мне, как жертве, пострадавшей за общественные интересы». Можно сказать, что все закончилось благополучно. Но это не так. Испытания продолжились.
После описанных событий некоторые старшеклассники стали здороваться с Иваном за руку, что для него было весьма лестно. Eму стали давать читать запрещенные книги, беседовать на «умные» темы. К слову сказать, в запрещенных тогда числились Лев Толстой и Федор Достоевский, равно как и другие новейшие писатели. «При этом читать запрещенные книги считалось почти революционным преступлением, а потому и гораздо более важным, чем драка, выпивка и т.п. И можно понять мой страх, — вспоминает владыка, — когда ректор семинарии протоиерей С[околов] увидел меня (уже после экзаменов), воротившимся из города в вышитой рубашке, а не в казенной черной тужурке со светлыми пуговицами, и начал делать мне за это строгий выговор, а у меня в руках была тогда запрещенная книжка с невинными рассказами не то Ивановича, не то Станюкевича. Как она жгла мне пальцы! Что там рубашка! Все это мучительное время думал я: у меня вот тут преступление куда страшнее! К счастью, начальство не заинтересовалось почему-то внутренним моим «безобразием», а успокоилось на выговоре за внешнее и послало меня «доложиться» инспектору, к которому я и явился, но предварительно упрятавши преступное «вещественное доказательство». Инспектор — хорошо вспоминаю о нем — М.А. Надеждин оказался милостивее ректора, скоро отпустил».
Дальше последовало знакомство с другими писателями — властителями молодых умов: Белинским, Писаревым и Добролюбовым. Читались различные сборники политико-экономических статей. Затем произведения Максима Горького и Леонида Андреева. И, наконец, аттестат на политическую зрелость — «История цивилизации в Англии» Генри Томаса Бокля. В этой книге повествовалось «об истории умственного развития» не только в Англии, но и в других странах. После этого прочтения Ваня уже являлся полноценным членом нелегальной библиотеки и мог сам выдавать книги своим товарищам. Поскольку он состоял официальным помощником библиотекаря семинарской библиотеки, то видеть его с книгой было для всех привычным делом. Нелегальная библиотека энергично поддерживалась «членскими» взносами и читалась бойко. Для Вани это был период самообразования, период ознакомления с новейшими изданиями и умственными исканиями молодежи.
Тем временем обучение в семинарии продолжалось своим чередом. «Жизнь учебная в общем-то была скучная-таки», — продолжает владыка. — И становится понятно, как мы ждали разных каникул: на святки, масленицу и Пасху. Еще с 21 ноября, когда запевалась в церкви в первый раз катавасия “Христос рождается, славите”, наши сердца начинали радоваться. А недели за две-три на классных досках появлялось это блаженное слово “роспуск”… И писалось оно уже везде, где можно: на тетрадках, в клозетах, вырезалось на партах, вписывалось в учебники. А когда подходит этот желанный день, мы просили учителей не спрашивать нас, а почитать что-нибудь. Помня свое время, они обычно охотно шли навстречу нам. Как это было отрадно и как мы были благодарны им! В общем, преподаватели во всех школьных ступенях были умные и хорошие люди».
Тем временем в сердцах и умах наиболее развитых семинаристов шло страшное революционное брожение. После двухлетней обработки Иван был приглашен на закрытое собрание «библиотеки», которое его председатель, первый ученик пятого класса семинарии, открыл пламенной речью против правительства. «О ужас!!! Куда я, скромный сынок маменькин, попал?.. — вспоминает святитель. — А речь все поднимается, сгущается… И вдруг Шацкий предлагает не менее, не более, как совершить террористические акты, и в первую очередь — цареубийство…» С этой поры революционный пыл Ивана «упал до нуля». «Мне все хотелось уйти, душа не лежала к революции и к убийствам вообще», — пишет владыка. От переживаний, умственного и физического напряжения, которым сопровождалось обучение в семинарии в числе первых учеников, у него на одном из подпольных собраний открылся кашель с кровью. Он тут же обратился к врачу и тот поставил ему диагноз — горловой туберкулез. «На это кровотечение я посмотрел как на указание перста Промысла Божия и с той поры перестал ходить на “заседания” и вообще навсегда потерял к подпольщине интерес. Правда, книжки еще иногда читал и другим давал, но скоро и это надоело», — вспоминает святитель.
В старших классах семинарии он уже руководил семинарским хором. За что, как хороший регент, был отмечен преосвященным архиереем, посетившим как-то раз семинарское богослужение.
Обучение в семинарии подходило к концу. «Я исполнял все церковные уставы — ходил в церковь, говел дважды в год, молился дома, соблюдал посты, старался жить возможно благочестиво, занимался учебой… <…> И это тихое житие почти не нарушалось до самого поступления в Санкт-Петербургскую академию», — пишет владыка. В то же время замечает, что по-настоящему его духовная жизнь еще и не начиналась.
Все же, успешная учеба в семинарии определяла дальнейший путь святителя — в столичную духовную академию в Санкт-Петербурге. Того желала и его мать.
Поблагодарить автора за труд